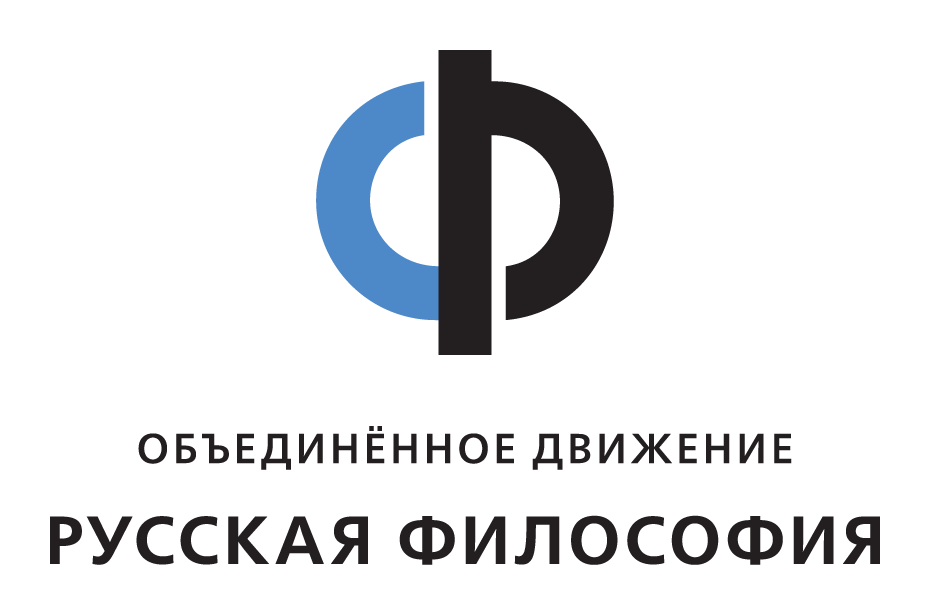Здравствуйте, уважаемые участники Философского Собора, посвященного такому большому смыслу – русской идее! По мере возможности я слушала доклады, и меня вдохновило это многообразие умных и мудрых людей, русских и российских, которые действительно очень самобытны и неповторимы. Каждый по-своему оценивает смысл этого великого культурного символа России – русской идеи. Я со своими скромными возможностями, потому что я не философ, а филолог, хотела бы тоже присоединиться к вашему размышлению, к вашим думам о России с тем, чтобы для себя и для вас попытаться ответить на этот вопрос – что же есть такое русская идея, опираясь на философскую традицию осмысления этого понятия, в том числе на традицию литературы, современной и классической. Начиная свой доклад, я хотела бы обратиться к эпиграфу своего доклада: "… все дело в воплощенной тоске – мечте – беде – целой стихии – России" (М. Цветаева).
Дело в понимании эмоциональной русской идеи, основанной на культурном самоопределении, самоидентификации. Духовная традиция русской идеи в поисках внутренней и нравственной правды, имеющей разрозненные, разнонаправленные силы общества. То, что объединяло в самых сложных кризисных ситуациях Россию, народ, интеллигенцию, как раз этим и является – множественным смыслом становящейся, открытой, незавершенной русской идеи. К русской идее всегда обращались как к спасению, с мыслями о России, которую нужно хранить и спасти в каких-то кризисных ситуациях. И всегда в этих размышлениях, в этих поисках истина была христоцентрична, с мыслью о том, что высшая истина Русской идеи – это истина пути, правды и жизни. На этой истине всегда держалась Россия на протяжении своей многотрудной трагической истории, начиная со времен Крещения, Киевской Руси, князя Владимира, крестившего Русь, которая пронесла христоцентричное понятие русской идеи сквозь века. Мой доклад имеет скорее ретроспективный характер, потому что я обращаюсь в большей степени к периоду некоего перелома, когда вдруг резко изменяется историческая эпоха, и мы все ощущаем необходимое желание понять новый исторический путь России.
Ситуация рубежа 1980-х и 1990-х годов. По сути, этот переворот, этот кризис девяностых был подготовлен именно эпохой конца восьмидесятых, когда и произошло изменение эволюции христианской прозы – она становится прозой деревенской и публицистической. Раньше, в 1960-е – 1970-е годы, деревенская проза ценилась своим статусом – в Европе ее называли онтологической прозой. Ее художественные открытия были очень важны. Деревенская проза получила большой культурный смысл и критическую, литературоведческую оценку в истории культуры XX века. Но в конце 1980-х – начале 1990-х эта деревенская проза вдруг неожиданно меняется и становится открыто публицистичной, гневной, в которой большинство писателей-деревенщиков пытаются понять некие социально-исторические процессы, которые происходят и с Россией, и с народом.
Но прежде чем мы перейдем к оценке деревенской прозы, мне хотелось бы вернуться к истокам – откуда и начинается эта деревенская проза. Это тихая, народная и нравственная философия. Она, конечно же, восходит к русской идее. И русская идея, как мне представляется, это творимый культурный миф о судьбе России, некий ее духовный абсолют, некий символ переживания, забытого и утерянного. Иногда мы теряем смыслы этого великого человеческого достояния. И истоки русской идеи в России, как она уже была представлена, отрефлексированы, конечно же, в полемике славянофилов и западников. На рубеже XIX–XX веков происходит актуализация этой русской идеи в творчестве представителей русской философии, прежде всего в творчестве Владимира Соловьева, Иванова, Бердяева, Федотова и Ильина, актуализировавших эту русскую идею, посвятив ей целый ряд интереснейших классических статей о ее универсальном мифологическом вечном смысле. Были некие ответы на вопросы о русской жизни, о судьбе России, о ее исторических путях, о ее историческом самосознании и памяти, о творческой силе народной души и самого народа, который творит историю как ее субъект. И русская идея выражает эту энергию народа.
И как раз Владимир Соловьев и представители русской религиозной философии в своих статьях размышляли о мессианской роли России. Они уже тогда понимали, что Россия находится в ситуации, цикличной для нее – переходе от XIX к XX веку. И, как всегда, в переходной ситуации обостряются многие социальные, политические и экономические проблемы в России и возникает потребность в осмыслении этой судьбы – что ее ожидает. Ожидание пророчеств, возрождений каких-то важных для нее смыслов, открывающих истину пути правды и жизни по Христу. И Владимир Соловьев в своей статье о русской идее размышляет о мессианской роли России. Представители русской религиозной философии тревожатся об утраченной целостности национальной жизни, думают о духовном самосознании народа. И в этом происходит актуализация исторических и культурных смыслов русской идеи на рубеже XIX–XX веков.
Еще один важный исток русской идеи – это особенность национального характера русского человека, его идеализм. Владимир Соловьев, кстати, не только в статье о русской идее об этом пишет, пытается оценить и понять суть этого идеализма, одна из его статей – "О цельном знании". Мне кажется, что в этой статье представлены словесные точки и важные смыслы в виде квадратной формулы. Каждая строка – набор неких смысловых точек в понимании русской идеи. И каждая строка (их всего четыре) содержит в себе некую триаду. Для Соловьева триада была очень важна, потому что непосредственно в статье о русской идее он выдвинул ее главный концептуальный смысл. Он скажет, что миссия русского народа и России в истории человечества – в том, чтобы возродить некий образ социальной троицы. И эта триада представлена тремя понятиями: дух – благо – воля. Ум – истина – представление. Душа – красота – чувство. Сущее – сущность – бытие. Вот такой гармоничный квадрат. Мы будем его по горизонтали и по вертикали рассматривать.
| Дух | Благо | Воля |
| Ум | Истина | Представление |
| Душа | Красота | Чувство |
| Сущее | Сущность | Бытие |
Если мы представим это в действии, в некой цепочке смыслов, то получается, что русская идея позволяет осуществить связь с сущим Бытия, которое дается душе человеческой благодаря слиянию ума и чувств, в первую очередь сердца. Это порождается представлением об истине и красоте, возвышается в духе благоговения и поступков, действий. Соловьев был во многом сыном своего времени, идеалистом по своим представлениям, и он говорит о сути этого идеализма, что добру отказано в реальном мире в утверждении. По его словам, жизнью и миром изначально правит зло. Обращаясь в еще одной статье к этому пониманию, он говорит, что жизненная драма еще Платона, классика и философа, создавшего первую идеалистическую систему, восходит к тому, чтобы создать некое эстетическое представление о платонизме, духовном устремлении. Это идеалистическое устремление очень близко русскому сознанию. О нем писал Флоренский в статье "Смысл идеализма" в 1914 году, когда уже бушевал первый жесточайший кризис в истории России и мира (Первая мировая война и др.). Флоренский писал об этом так: "У нас понятие об идеальном, как о конкретной полноте совершенства и о высшей реальности, заложено в самом сердце нашего жизнепонимания. Этот идеализм – это и есть средство сохранения перед лоном праведного мира. И если мы спроецируем это чувство на судьбу России, то станут понятны вечные поиски гармоничного социального обустройства, некоего царства Божия на Земле. И того же Бердяева, который принадлежал к плеяде русских религиозных философов, активно публиковали в девяностых, когда Россия обратилась к этому спасительному смыслу русской идеи. Бердяева называли гениальным пустословом, тем не менее очень много интересных мыслей и рассуждений о русской идее Бердяев, конечно же, оставил, будучи уже человеком, которого вместе с остальной философской интеллигенцией отправили на философском пароходе, он, уже по следам всех этих трагических событий, сделал такое заключение: "Коммунизм есть русская судьба", – момент внутренней судьбы русского народа. По сути, идея коммунизма оправдана и всей историей русского народа, сложной и трагической, и мечтой о светлом социальном рае на земле. Об этом много было полемики в девяностые годы – о том, что по сути идея коммунизма сопряжена с христианской идеей земного рая. Здесь я не буду упрощать – это отдельная тема. Например, в статье журнала "Философско-социологические мысли" за 1991 год автор размышляет, не обречена ли Россия на бессмертие русской идеи. Не была ли она духовным орудием самосохранения в борьбе России с собственной судьбой. Не обречено ли русское сознание на вечную жизнь? На устремление к миру горнему, чтобы как-нибудь вынести кошмар дольнего существования? Является ли иррациональная и умом непонятная вера в русскую идею не чем иным, кроме как русским идеализмом, обращенным к истории?
Вот такой экскурс в историю русской идеи и актуализация важных представлений нам необходимы для того, чтобы понять, почему на новом циклическом витке, на рубеже XIX и XX веков мы вновь обращаемся к этому великому культурному смыслу русской идеи. Если говорить о процессах, которые происходят уже в конце 1980-х и приближают этот социально-политический переворот в России, то здесь нужно выделить, пожалуй, три главных аспекта необходимости актуализации смыслов русской идеи. Первое положение и первая причина этого – кризис духовной идентификации. Это реальный процесс, который охватил Россию уже после августа 1991 года. Об этом кризисе духовной идентификации времени, народа и государства говорили не только писатели-деревенщики, представители городской, интеллектуальной и филологической прозы, выражением кризиса духовной идентификации, потери бытийных, ценностных смыслов, самой жизни, находящейся в рождении чего-то непонятного и небывалого. Об этом говорили все, и даже постмодернизм – своеобразное выражение этого кризиса. Можно привести такой факт из области литературы о кризисе идентификации в романе Михаила Кураева "Зеркало Монтачки". На него откликнулись многие критики, включая Наталью Иванову. В этом романе сам процесс кризиса идентификации получил сюжетное, фантастическое воплощение. Уставшие от повседневных бытовых неурядиц жители коммунальной квартиры, проснувшись рано утром, понимают, что утратили способность к самоотражению. Их лица в зеркалах просто не отражаются. Полное ощущение, что они в плену житейской суеты, жизни выживания, как в кошмарном и нереальном сне. Критик Наталья Иванова говорила о том, что проза девяностых годов – это проза катастрофы, некий сюжет духовного безвременья. Это первая причина обращения к русской идее, как к некой спасительной, духовной и важной идее России.
Вторая причина – то, что постепенно формируется в лоне этой эпохи. Это идея возрождения исторической России, по мысли режиссера Станислава Говорухина ("Россия, которую мы потеряли"). У нас были надежды на этот концепт возрождения исторической России. Во-первых, строилось много новых храмов – был небывалый приток. Люди почувствовали, что вера еще жива. В советский период она была достоянием в большей степени женщин – этих старух в белых платочках, которые втайне носили своих младенцев крестить, потому что для всех представителей официальной стороны жизни это было наказуемо. В девяностые годы эта идея веры становится основной. Она связана с возрождением исторической России и надеждами на это возрождение, на многие очень важные культурные ценности, которые несет в себе эта историческая память. Мы знаем, что путь к храму был открыт народом. Это была действительно та тропа, которая вела его к церкви как спасительной силе. При этом я могу сказать и другое. Моя мама была очень верующим человеком, и в советское время, когда были гонения на церковь, не пропускала ни одной воскресной службы. И когда она столкнулась с этим притоком людей в храмы, она мне как-то сказала в личном разговоре, что эти люди, которые приходят в храм, у них нет истинной веры. Они формально выполняют все обряды, ритуалы церковной литургии, но той нравственной силы, которая стоит за этим, не чувствуется. Мама говорила, что даже у тех людей, которые в советское время ходили в церковь, было больше силы духа, веры, и вера была более настоящей, крепкой. Но тем не менее эта надежда, эта вера действительно были светлым началом в эти лихие девяностые. И это было то, что объединяло народ, вновь нас вернуло к воскрешению важных смыслов, в том числе пробудило огромный интерес всех представителей мыслящей интеллигенции России к этому спасительному смыслу русской идеи и возрождению России.
Наконец, третья причина – это открытость новому. Россия оказалась в этом циклическом состоянии, когда она ищет свой путь развития, и в этом поиске пути, своего самоопределения она стала открытым пространством, в первую очередь для Запада. Именно в 1990-е годы происходит прямое, безо всяких культурных, социальных и экономических законов, прямое сближение с Западом. Оно имело, с одной стороны, и положительный результат, потому что Россия в первую очередь Европа. И европейские смыслы; даже сама идея коммунистического и политического движения приходит к нам через капитал Маркса, через марксизм. Европа дала России очень много. По сути, наша культура, начиная с Пушкина – во многом европейская культура. Но само это сближение с Западом в таком социально-политическом ключе не было продуманным. Россия, по сути, во всех сферах бездумно копировала матрицу Запада. Это копирование очень часто приводило к дисгармоническим разрывам, тем не менее мы все шли по этому пути, потому что это была магистральная и основная линия развития России в тот период.
Я могу привести пример, он очень частный, из споров с моей дочерью, выпускницей МГУ, о влиянии Запада. Она, конечно же, не соглашается, потому что наша образованная и культурная молодежь поддерживает европейское развитие России. Другого пути не видит. Я ей рассказала, как однажды в Ростове-на-Дону, где я жила, на главной улице впереди меня шли двое крепких и здоровых мужчин-иностранцев. Разговаривали они по-немецки. Они так хозяйственно оглядывали наш город Ростов и говорили: "Ну что ж, Россия… Это дешевая рабсила". Отношение Запада к России – как к некоему средству для чего-то. Это неискреннее, не то открытое отношение, которое было у России с ее надеждами, ожиданием перемен. С ожиданием этого обновления, которое принесет, наконец, России важные рычаги развития и истинные ценности, которые ей были нужны. На самом деле все эти истинные ценности, в том числе истина пути и правды жизни, они должны родиться самим народом. Эта самобытность национального самосознания, эта творческая, великая сила народа вдруг оказалась подавленной и невостребованной в тот период.
И как раз деревенщики очень хорошо почувствовали эти переломы, процессы, в большей степени они уже говорили об этом публицистически, открыто. Может быть, еще в рассказах, каких-то отдельных распутьях. Но в целом до конца эти процессы, на мой взгляд, до сих пор еще не осмыслены в том необходимом определении этих смыслов, которые мы могли бы найти и в литературе, и в философии, и в искусстве. На мой взгляд, если говорить о публицистичности прозы конца 1980-х, то здесь был выпущен очень хороший сборник на путях сотрудничества России и Запада – сборник о русской литературе XX века, вышедший в 1993 году – "Русская литература XX века". Этот сборник интересен тем, что там представлены статьи преподавателей и профессоров университетов США и Европы, и одна из статей была посвящена деревенской прозе, приведен такой диагноз этой прозе: "Деревенская проза словно оказалась в ловушке между городом и деревней, уподобилась героям Шукшина, нескладным, несчастным, всюду бесприютным, нигде не находящим утешения своей изболевшейся душе". Это состояние перед лихими девяностыми, когда деревенская проза становится публицистической, открытой миру. В 1985–1986 годах выходят произведения Распутина ("Пожар"), Астафьева ("Царь-рыба", "Стародуб" и др.), Белова ("Всё впереди"). Утрачен эстетический лад деревенской прозы, который считается основой ее кодекса чести. Важно сказать и о "Чистой книге" Абрамова – эпическом романе и его замысле. Это есть задача сегодняшней России. Завершу свое выступление пятью основными положениями из этой незавершенной книги.
Одна из заметок (30 мая 1980 года) так и называлась "Россия ищет себя". Разные поиски, разные пути:
- Поиски в народной гуще (мечты о Беловодье, миграция в Сибирь, на тучные земли). Жил-жил и неплохо, не удержать. Не такова ли и Россия?
- Странничество, бродяжничество. Набожность (староверы), общинная жизнь. Самая великая революция.
3. Революционеры, экстремисты разных мастей.
4. Культурничество и просветительство.
5. Деловая жизнь. Болтовня – все эти россказни о новой жизни. Новую жизнь надо строить. Дороги, города, фабрики, заводы.
Это ярчайшее произведение деревенской прозы. Очень жаль, что оно оказалось незавершенным.
Заканчивая свое выступление, я хотела бы вернуться к статье Соловьева "О русской идее", в которую заложена идея социальной "Троицы", и в ней он говорит, что восстановить на земле этот верный образ Божественной Троицы – вот в чем русская идея, идея русской нации. Она не должна замыкаться в собственной эгоистичной национальности. Нам не нужны действия против других наций, но с ними и для них. В этом лежит великое доказательство, что русская идея есть идея истины, а истина – идея добра. Если говорить о судьбах самой деревенской прозы, то сейчас мы не видим ярких представителей этого течения Можно сказать, что ее расцвет пришелся на 1970-е годы. В 1990-е это был уже закат, а сейчас я вовсе не вижу каких-то ярких талантов, связанных с этим течением.